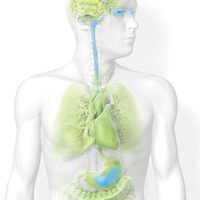Зелёные платочки: история из женской колонии
Нет ничего более интересного, чем наблюдать, как Бог открывается человеку, ищущему Бога. Поэтому помогать такому человеку — самая захватывающая работа на свете. Эту историю рассказала мне староста храма одной из колоний, где я несу тюремное служение. А я постарался придать ей более-менее литературную форму.
Георгий Седьмицын, преподаватель Закона Божия
и православной школы трезвости
в одной из российских колоний
Это случилось со мной на посту старосты тюремного храма. От обычного он отличается тем, что стоит посреди колонии, а его прихожанами являются осужденные. Из них же выбирается староста. Чтобы сразу удовлетворить ваше здоровое любопытство, сообщу, что я была осуждена за наркотики. Таких, как я, у нас полколонии, но вы это сильно в голову не берите: пока не употребляют — те же люди. Наш преподаватель воскресной школы, врач по образованию, говорит, что на преступление наркомана толкает болезнь — не посадить его нельзя, но посадив, нужно и пожалеть.
Сама эта история к наркомании отношения не имеет и может произойти с любым верующим. Посторонний нецерковный глаз, скорее всего, ничего особенного в ней не увидит, а может, и найдет признаки помешательства. Как сказала в телефон моя высокообразованная высоконравственная сестра: «То, что у тебя там кукуха поехала (это она про мое тюремное воцерковление), мы уже поняли. Как выйдешь, наймем тебе хорошего психолога». Я уже рот открыла, чтобы сказать «себе найми», как вспомнила, что у меня на эту неделю домашнее задание с языком бороться. С сестрой понятно — «утаил Господь сие от премудрых и разумных». А вот есть у меня тут подруга, можно сказать, простофиля, детство в интернате прошло, так она, слушая мой рассказ, смеялась от радости и лезла обниматься. Она, как и я, Бога уже в колонии открыла.

Чтобы вам лучше понять интригу, должна сказать несколько слов, на какой ступени лестницы Иакова я в тот момент находилась.
В Церковь я недавно пришла, уже в колонии, но втянулась быстро. В тюрьме и вверх и вниз быстро двигаются, год за три идет. Мне повезло, я молитву сразу почувствовала. Сообразила, какая это тупость — без молитвы жить, тем более в колонии. Здесь зла много, но и доброе есть. Без молитвы — только зло начинаешь видеть, тогда и срок долго тянется. Любая верующая здесь подтвердит: если утренние не прочитала, то днем обязательно или закусишься с кем-нибудь, или надзорка зацепит. Пока к первой исповеди готовилась, поняла, как в тюрьме очутилась. А то думала — случайно. После первого причастия тюрьму уже не так уверенно проклинала, а через полгода благодарила за Церковь и другой судьбы не желала. Так бы и летала до сих пор на метле: ноги из джипа, пивная банка в окно — на природу культурно отдыхать едем. Как вспомню — хоть на свободу не выходи.
Меня на производство не выводят, я свой день в храме провожу. По ведомости моя должность «дневальный храма» называется. Оцените. У окормляющего нас батюшки свой приход, а у нас он раз в месяц служит, и то только в будни получается, когда не все могут с фабрики выйти. Половина верующих священника два раза в год видит. Все остальное время я здесь главный и единственный представитель Русской Православной Церкви. Так, во всяком случае, осужденные считают. Это я-то… Чудны дела Твои, Господи. А с другой стороны — здесь все как я, не больно-то развыбираешься. Кого-то все равно нужно старостой храма поставить, я хоть обучаемая.
Осужденные со всеми вопросами ко мне идут. От «куда свечку за УДО поставить» (УДО — условно-досрочное освобождение. — Ред.) до самых богословских. Как-то одна зарядила: «Предопределена я все-таки или свободна?» Правда, на местном диалекте это по-другому звучит, здесь вообще любят фигурально выражаться. Когда хотят жесткую предопределенность обозначить, «срыва ноль с подводной лодки» говорят. Я сначала на вопросы раздражалась: откуда я знаю, батюшку спрашивайте, а потом стала отвечать: поищу, приходите завтра. У нас в храме духовная библиотека не бедная, если в книгах ответа не нахожу, ждем батюшку или воскресную школу.

Со слезами тоже ко мне идут. Больше, конечно, перед иконами стоят, молча плачут. Но есть такие, кому нужно глаза человеческие видеть. У одной дома беда, другую в бригаде затюкали, или просто «срок большой — тоска напала» — к кому пойдешь? Даже сильный человек от тюрьмы устать может. У психолога рабочие часы с нашими совпадают, а с производства бригадир не отпускает — конвейер. Для таких у меня всегда конфетки припасены. Это на свободе конфетка — ерунда, а здесь жизнь спасти может. Попьет бедолага в храме чаю с конфеткой, проплачется, изольет душу — вроде как раздышалась, дальше жить можно. Меня так же после этапа вытянули. Много ли зеку надо, сочувствием не избалованы.
Кого-то, наоборот, встряхнуть нужно: «Ты что, одна тут такая? Посмотри вокруг, есть кому хуже гораздо, иди — им помоги! Вон женщина с пятого отряда, у нее дочка умерла, пока мама в тюрьме сидит, сходи, вырази соболезнование, вот конфетки возьми, передай. Тебе самой легче станет. Завтра опять приходи, чаю попьем, расскажешь, как сходила». Я раньше высшую квалификацию имела по «разведению кроликов» — у нас так про манипулирование говорят. С одного взгляда могла понять, что за человек передо мной и на какую кнопку нажать нужно. Пригодилась дурная энергия в мирных целях.
Некоторые плаксы «на конфетки» походят и к храму привыкают. Вопросы начинают задавать. «А что это вы все пишете? (На зоне писать любят.) Я тоже хочу». — «Это мы к исповеди готовимся. Тебе еще рано, ты не крещеная». — «Так крестите!» Неверующие тоже, бывает, в храм заходят, без мата и радио в тишине посидеть. Храм у нас еще бомбоубежищем называют.
Чтобы храм «не остывал», я по благословению батюшки молитвы в течение дня читаю. Все как полагается, вслух, за аналоем. Утренние-вечерние полностью, обязательно Псалтирь, тропари, акафисты. Если кто из девчонок свободен — присоединяются. За новопреставленных близких часто просят помолиться, батюшка благословил панихиду мирским чином читать. Колония большая, чуть ли не каждый день ее творим. Когда близкие на свободе умирают, даже противники Церкви просят помолиться, «попов на мерседесах» временно откладывают.
Из акафистов святым больше всего душа к «нашим, тюремным» лежит — Анастасии Узорешительнице и Николаю Чудотворцу. Опытным путем в их помощи многие удостоверились. У иконы великомученицы Анастасии несколько раз лампадка сама зажигалась, я видела, и мурашки у меня по спине бежали. Мы, конечно, об этом на всю зону не трубим, но свои знают и верят, что не фантазии. Очень здесь эту икону любят, хотя она больше на детский рисунок похожа, чем на икону. А может, и поэтому. Ее здешняя осужденная еще в начале 90-х написала, когда икон не хватало. За 30 лет море слез перед ней было пролито, поменять ни у кого рука не поднимается.
Благодаря молитвенному послушанию я среди осужденных супервоцерковленной считаюсь — незаслуженно, конечно. Как ни зайдут — я у аналоя стою. На атмосферу в храме это хорошо влияет, но каких усилий мне иногда стоит… Чаще, конечно, я на молитву с готовностью встаю, знаю, что, как лекарство, через десять минут подействует. Возня в голове уляжется и вся нечистая сторона тюремной жизни, все эти маты, интриги, пересуды, сожительницы — все мимо меня пойдет. У осужденных такой иммунитет «тонировкой вкруг» называется и ценится даже неверующими. Но бывает и так, что оставляет Господь самой побарахтаться. Особенно поначалу так было. Тогда даже не ветхий человек во мне просыпался, а целый неандерталец.

Тот вечер, о котором хочу рассказать, как раз такой был. Не помню за что, наверное, как обычно, за осуждение, отошел от меня Господь и веру забрал. Смотрю — и храма своего не узнаю. Иконы я наши полюбила, а тут не иконы вокруг видятся, а как будто картинки поразвесили. Пришло время Псалтирь читать, девчонок, как всегда, на фабрике задержали, я одна в храме. Встала к аналою, через силу читать начала. Двенадцатая кафизма по очереди была: «Приклони, Господи, ухо Твое, и услыши мя, яко нищ и убог есмь аз». Я это запомнила, потому что сразу подумала: нет там никого, никто не услышит. И такая злость на меня напала: взрослая тетка, 40 лет, чем занимаюсь? В тюрьму посадили, книжку сунули — утешайся, как будто так и надо! Могу не читать, никто не увидит, зачем читаю? Раздвоение во мне идет: себя ругаю (кому это все нужно, дурилку картонную из меня сделали) — и тут же злюсь, что ленивая, что Бога предаю. Мясорубка внутри работает, душу на фарш перекручивает. «Ангелов нет, святых нет, всё театр» — а другая половина ума на святых ропщет, что оставили. От злости слезы по щекам текут. Боюсь, как бы Псалтирью в стену не запустить. Нет, думаю, из вредности одну кафизму все равно дочитаю.
Тут слышу, открывается наша дверь и заходят две осужденные. Наверное, из новеньких, раньше я их не видела. Смотрят на меня робко и, похоже, удивляются: надо же, наверное, думают, какая верующая, со слезами стоит молится. Было мне плохо, а теперь совсем от стыда в глазах потемнело, сквозь землю бы провалиться. Так-то Ты мне, Господи, помогаешь — этих еще прислал? Скосила на них глаза — стоят сзади в платочках, смиренные такие, тихонько крестятся. А платочки-пальтеца у нас у всех одинаковые, ядовито-зелененькие, страшненькие. Бурки на ногах. И почему-то жалко мне их стало. До тюрьмы от такого наряда меня бы затошнило, а сейчас показалось, что это дети мои, сиротки, на свободе оставленные, погреться зашли. Как только я детей вспомнила, такая жалость к этим девчонкам проснулась, что совсем другие слезы потекли. И тут же вся злоба моя улетучилась, и храм на глазах преобразился, даже запах другой стал.
Миленькие мои! Бог мне вас послал! Не оставил в аду гореть. Да я с вами теперь хоть до утра молиться согласна. Господи, Господи! Матерь Божия Богородица, ангелы Христовы, святые угодники. Вот она Церковь: один гребец занемог, Господь двоих на помощь послал, не одна я в лодке! Не дай, Господи, мне дурочке когда-нибудь от Церкви отойти.

А ведь они после смены пришли, усталые. До храма дойти — еще волю проявить надо, в локалке постоять, унижение принять (локалка — огороженный перед бараком участок. — ред.). Без сопровождения по территории лагеря передвигаться нельзя, вот и стоим за железными прутьями, высматриваем — не покажутся ли где-нибудь погоны. А потом скулим на всю колонию: Татьяна Ивановна или кто там, можно мне в санчасть, можно в посылочную, можно в храм! Кричать нужно громко и желательно с мольбой в голосе — как ни старайся, вой получается. А тебе, может, за 50, у тебя внуки. Можно так минут 20 простоять да на морозе попрыгать. Потом обратно таким же манером. А своего личного времени после работы совсем ничего не остается. Нужно и за горячей водой в очереди постоять, и в каптерку, а если что из своего покушать порезать или назавтра на работу бутерброд сделать — еще и за ножом очередь. Единственный тупой нож к столу цепью прикован. А в отряде 90 человек, и все разом с работы приходят, кто послабже, даже не суются.
Стоят, мои хорошие, что-то за мной шепчут. Раз уж пришли, наверное, нужда заставила, может, дома плохо. Выручили меня из беды. И утешить-то их нечем — конфеты, как назло, кончились. Надо их запомнить, в следующий раз угощу.
* * *
… Когда девчонки ушли, я села за свой столик в самом углу храма и огляделась вокруг. Храм наш небольшой, деревянный, изнутри похож на избушку, зимой в нем тепло и уютно. Мерцают лампадки, пахнет воском и деревом. Серьезно-ласковыми глазами смотрят со стен святые. Из моего уголка чудится, что я сижу в той самой обратной перспективе, о которой нам рассказывали на занятиях. Надо бы обдумать и записать на будущее все, что сейчас со мной произошло. Как я из ада в рай переместилась. Достаю дневник, беру ручку, но думать не получается, вместо этого сама собой всплывает «Богородице Дева, радуйся». Соглашаюсь: лучше подумаю об этом завтра, а сегодня буду просто дышать подаренной мне благодатью.
Георгий Седьмицын
Георгий Седьмицын, преподаватель Закона Божия
и православной школы трезвости
в одной из российских колоний
Это случилось со мной на посту старосты тюремного храма. От обычного он отличается тем, что стоит посреди колонии, а его прихожанами являются осужденные. Из них же выбирается староста. Чтобы сразу удовлетворить ваше здоровое любопытство, сообщу, что я была осуждена за наркотики. Таких, как я, у нас полколонии, но вы это сильно в голову не берите: пока не употребляют — те же люди. Наш преподаватель воскресной школы, врач по образованию, говорит, что на преступление наркомана толкает болезнь — не посадить его нельзя, но посадив, нужно и пожалеть.
Сама эта история к наркомании отношения не имеет и может произойти с любым верующим. Посторонний нецерковный глаз, скорее всего, ничего особенного в ней не увидит, а может, и найдет признаки помешательства. Как сказала в телефон моя высокообразованная высоконравственная сестра: «То, что у тебя там кукуха поехала (это она про мое тюремное воцерковление), мы уже поняли. Как выйдешь, наймем тебе хорошего психолога». Я уже рот открыла, чтобы сказать «себе найми», как вспомнила, что у меня на эту неделю домашнее задание с языком бороться. С сестрой понятно — «утаил Господь сие от премудрых и разумных». А вот есть у меня тут подруга, можно сказать, простофиля, детство в интернате прошло, так она, слушая мой рассказ, смеялась от радости и лезла обниматься. Она, как и я, Бога уже в колонии открыла.

Чтобы вам лучше понять интригу, должна сказать несколько слов, на какой ступени лестницы Иакова я в тот момент находилась.
В Церковь я недавно пришла, уже в колонии, но втянулась быстро. В тюрьме и вверх и вниз быстро двигаются, год за три идет. Мне повезло, я молитву сразу почувствовала. Сообразила, какая это тупость — без молитвы жить, тем более в колонии. Здесь зла много, но и доброе есть. Без молитвы — только зло начинаешь видеть, тогда и срок долго тянется. Любая верующая здесь подтвердит: если утренние не прочитала, то днем обязательно или закусишься с кем-нибудь, или надзорка зацепит. Пока к первой исповеди готовилась, поняла, как в тюрьме очутилась. А то думала — случайно. После первого причастия тюрьму уже не так уверенно проклинала, а через полгода благодарила за Церковь и другой судьбы не желала. Так бы и летала до сих пор на метле: ноги из джипа, пивная банка в окно — на природу культурно отдыхать едем. Как вспомню — хоть на свободу не выходи.
Меня на производство не выводят, я свой день в храме провожу. По ведомости моя должность «дневальный храма» называется. Оцените. У окормляющего нас батюшки свой приход, а у нас он раз в месяц служит, и то только в будни получается, когда не все могут с фабрики выйти. Половина верующих священника два раза в год видит. Все остальное время я здесь главный и единственный представитель Русской Православной Церкви. Так, во всяком случае, осужденные считают. Это я-то… Чудны дела Твои, Господи. А с другой стороны — здесь все как я, не больно-то развыбираешься. Кого-то все равно нужно старостой храма поставить, я хоть обучаемая.
Осужденные со всеми вопросами ко мне идут. От «куда свечку за УДО поставить» (УДО — условно-досрочное освобождение. — Ред.) до самых богословских. Как-то одна зарядила: «Предопределена я все-таки или свободна?» Правда, на местном диалекте это по-другому звучит, здесь вообще любят фигурально выражаться. Когда хотят жесткую предопределенность обозначить, «срыва ноль с подводной лодки» говорят. Я сначала на вопросы раздражалась: откуда я знаю, батюшку спрашивайте, а потом стала отвечать: поищу, приходите завтра. У нас в храме духовная библиотека не бедная, если в книгах ответа не нахожу, ждем батюшку или воскресную школу.

Со слезами тоже ко мне идут. Больше, конечно, перед иконами стоят, молча плачут. Но есть такие, кому нужно глаза человеческие видеть. У одной дома беда, другую в бригаде затюкали, или просто «срок большой — тоска напала» — к кому пойдешь? Даже сильный человек от тюрьмы устать может. У психолога рабочие часы с нашими совпадают, а с производства бригадир не отпускает — конвейер. Для таких у меня всегда конфетки припасены. Это на свободе конфетка — ерунда, а здесь жизнь спасти может. Попьет бедолага в храме чаю с конфеткой, проплачется, изольет душу — вроде как раздышалась, дальше жить можно. Меня так же после этапа вытянули. Много ли зеку надо, сочувствием не избалованы.
Кого-то, наоборот, встряхнуть нужно: «Ты что, одна тут такая? Посмотри вокруг, есть кому хуже гораздо, иди — им помоги! Вон женщина с пятого отряда, у нее дочка умерла, пока мама в тюрьме сидит, сходи, вырази соболезнование, вот конфетки возьми, передай. Тебе самой легче станет. Завтра опять приходи, чаю попьем, расскажешь, как сходила». Я раньше высшую квалификацию имела по «разведению кроликов» — у нас так про манипулирование говорят. С одного взгляда могла понять, что за человек передо мной и на какую кнопку нажать нужно. Пригодилась дурная энергия в мирных целях.
Некоторые плаксы «на конфетки» походят и к храму привыкают. Вопросы начинают задавать. «А что это вы все пишете? (На зоне писать любят.) Я тоже хочу». — «Это мы к исповеди готовимся. Тебе еще рано, ты не крещеная». — «Так крестите!» Неверующие тоже, бывает, в храм заходят, без мата и радио в тишине посидеть. Храм у нас еще бомбоубежищем называют.
Чтобы храм «не остывал», я по благословению батюшки молитвы в течение дня читаю. Все как полагается, вслух, за аналоем. Утренние-вечерние полностью, обязательно Псалтирь, тропари, акафисты. Если кто из девчонок свободен — присоединяются. За новопреставленных близких часто просят помолиться, батюшка благословил панихиду мирским чином читать. Колония большая, чуть ли не каждый день ее творим. Когда близкие на свободе умирают, даже противники Церкви просят помолиться, «попов на мерседесах» временно откладывают.
Из акафистов святым больше всего душа к «нашим, тюремным» лежит — Анастасии Узорешительнице и Николаю Чудотворцу. Опытным путем в их помощи многие удостоверились. У иконы великомученицы Анастасии несколько раз лампадка сама зажигалась, я видела, и мурашки у меня по спине бежали. Мы, конечно, об этом на всю зону не трубим, но свои знают и верят, что не фантазии. Очень здесь эту икону любят, хотя она больше на детский рисунок похожа, чем на икону. А может, и поэтому. Ее здешняя осужденная еще в начале 90-х написала, когда икон не хватало. За 30 лет море слез перед ней было пролито, поменять ни у кого рука не поднимается.
Благодаря молитвенному послушанию я среди осужденных супервоцерковленной считаюсь — незаслуженно, конечно. Как ни зайдут — я у аналоя стою. На атмосферу в храме это хорошо влияет, но каких усилий мне иногда стоит… Чаще, конечно, я на молитву с готовностью встаю, знаю, что, как лекарство, через десять минут подействует. Возня в голове уляжется и вся нечистая сторона тюремной жизни, все эти маты, интриги, пересуды, сожительницы — все мимо меня пойдет. У осужденных такой иммунитет «тонировкой вкруг» называется и ценится даже неверующими. Но бывает и так, что оставляет Господь самой побарахтаться. Особенно поначалу так было. Тогда даже не ветхий человек во мне просыпался, а целый неандерталец.

Тот вечер, о котором хочу рассказать, как раз такой был. Не помню за что, наверное, как обычно, за осуждение, отошел от меня Господь и веру забрал. Смотрю — и храма своего не узнаю. Иконы я наши полюбила, а тут не иконы вокруг видятся, а как будто картинки поразвесили. Пришло время Псалтирь читать, девчонок, как всегда, на фабрике задержали, я одна в храме. Встала к аналою, через силу читать начала. Двенадцатая кафизма по очереди была: «Приклони, Господи, ухо Твое, и услыши мя, яко нищ и убог есмь аз». Я это запомнила, потому что сразу подумала: нет там никого, никто не услышит. И такая злость на меня напала: взрослая тетка, 40 лет, чем занимаюсь? В тюрьму посадили, книжку сунули — утешайся, как будто так и надо! Могу не читать, никто не увидит, зачем читаю? Раздвоение во мне идет: себя ругаю (кому это все нужно, дурилку картонную из меня сделали) — и тут же злюсь, что ленивая, что Бога предаю. Мясорубка внутри работает, душу на фарш перекручивает. «Ангелов нет, святых нет, всё театр» — а другая половина ума на святых ропщет, что оставили. От злости слезы по щекам текут. Боюсь, как бы Псалтирью в стену не запустить. Нет, думаю, из вредности одну кафизму все равно дочитаю.
Тут слышу, открывается наша дверь и заходят две осужденные. Наверное, из новеньких, раньше я их не видела. Смотрят на меня робко и, похоже, удивляются: надо же, наверное, думают, какая верующая, со слезами стоит молится. Было мне плохо, а теперь совсем от стыда в глазах потемнело, сквозь землю бы провалиться. Так-то Ты мне, Господи, помогаешь — этих еще прислал? Скосила на них глаза — стоят сзади в платочках, смиренные такие, тихонько крестятся. А платочки-пальтеца у нас у всех одинаковые, ядовито-зелененькие, страшненькие. Бурки на ногах. И почему-то жалко мне их стало. До тюрьмы от такого наряда меня бы затошнило, а сейчас показалось, что это дети мои, сиротки, на свободе оставленные, погреться зашли. Как только я детей вспомнила, такая жалость к этим девчонкам проснулась, что совсем другие слезы потекли. И тут же вся злоба моя улетучилась, и храм на глазах преобразился, даже запах другой стал.
Миленькие мои! Бог мне вас послал! Не оставил в аду гореть. Да я с вами теперь хоть до утра молиться согласна. Господи, Господи! Матерь Божия Богородица, ангелы Христовы, святые угодники. Вот она Церковь: один гребец занемог, Господь двоих на помощь послал, не одна я в лодке! Не дай, Господи, мне дурочке когда-нибудь от Церкви отойти.

А ведь они после смены пришли, усталые. До храма дойти — еще волю проявить надо, в локалке постоять, унижение принять (локалка — огороженный перед бараком участок. — ред.). Без сопровождения по территории лагеря передвигаться нельзя, вот и стоим за железными прутьями, высматриваем — не покажутся ли где-нибудь погоны. А потом скулим на всю колонию: Татьяна Ивановна или кто там, можно мне в санчасть, можно в посылочную, можно в храм! Кричать нужно громко и желательно с мольбой в голосе — как ни старайся, вой получается. А тебе, может, за 50, у тебя внуки. Можно так минут 20 простоять да на морозе попрыгать. Потом обратно таким же манером. А своего личного времени после работы совсем ничего не остается. Нужно и за горячей водой в очереди постоять, и в каптерку, а если что из своего покушать порезать или назавтра на работу бутерброд сделать — еще и за ножом очередь. Единственный тупой нож к столу цепью прикован. А в отряде 90 человек, и все разом с работы приходят, кто послабже, даже не суются.
Стоят, мои хорошие, что-то за мной шепчут. Раз уж пришли, наверное, нужда заставила, может, дома плохо. Выручили меня из беды. И утешить-то их нечем — конфеты, как назло, кончились. Надо их запомнить, в следующий раз угощу.
* * *
… Когда девчонки ушли, я села за свой столик в самом углу храма и огляделась вокруг. Храм наш небольшой, деревянный, изнутри похож на избушку, зимой в нем тепло и уютно. Мерцают лампадки, пахнет воском и деревом. Серьезно-ласковыми глазами смотрят со стен святые. Из моего уголка чудится, что я сижу в той самой обратной перспективе, о которой нам рассказывали на занятиях. Надо бы обдумать и записать на будущее все, что сейчас со мной произошло. Как я из ада в рай переместилась. Достаю дневник, беру ручку, но думать не получается, вместо этого сама собой всплывает «Богородице Дева, радуйся». Соглашаюсь: лучше подумаю об этом завтра, а сегодня буду просто дышать подаренной мне благодатью.
Георгий Седьмицын
Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.