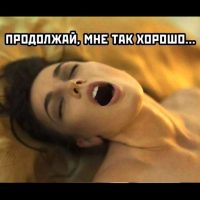Фарисейский страх
«Фарисей на самом деле вовсе не хвастается перед Богом, подумалось мне. Фарисею страшно. И он припоминает то, что закон научил его считать «добрыми делами», проверяет средства защиты» — священник Сергий Круглов к евангельскому чтению о мытаре и фарисее.

Люди, которые давно в Церкви, чувствуют весну еще и так: вот Крещение прошло, а вот и «Покаяния двери» на Всенощной запели, значит, всё, дело к весне. Как с ледяной горки: долго лез на нее, лез, долез – и вот сел на санки, оттолкнулся, и эххх!.. Хоть и морозы еще, а быстрее времечко полетело, в сторону Великого поста, а там и Пасха ближе близкого.
И Неделя о мытаре и фарисее – как первая кочка на этом стремительном пути, первое напоминание: тряхнет, не даст забыть о главном.
«Фарисей, став, молился сам в себе так: Боже! благодарю Тебя, что я не таков, как прочие люди, грабители, обидчики, прелюбодеи, или как этот мытарь: пощусь два раза в неделю, даю десятую часть из всего, чтó приобретаю» (Лк. 18, 11-12)…
В первые годы своего пребывания в Церкви я читал разные толкования этой притчи и навык, как, наверное, и многие, держать в уме, что мытарем быть хорошо, фарисеем – плохо. В соединении с тем, что я еще и священник, это осознание прежде всего было для меня предметом проповеди, то есть жанра, в котором наиболее употребительно обтекаемое безличное «мы все»… Нехороший фарисей осуждает мытаря, гордится собой (хотя, к слову сказать, в жизни-то мы нередко видим и мытарей, сиречь закоренелых грешников, у которых гордыни не меньше, чем у фарисеев, и они умудряются вроде и раскаиваться, но при этом как-то так эффектно гордиться своими грехами, что диву даешься, взять хотя бы иного пропойцу или бабника… Ну, не о мытарях я веду сейчас речь), словом, чада, не будем же «мы все» уподобляться фарисею, вещал я когда-то народу Божию.
Что ж, я был молод когда-то… Молодость ведь, помимо прочего, означает еще и неизношенность, наличие каких-то сил – не вышеестественно благодатных, специально Богом данных, а просто естественных, человеческих, и телесных, и ментальных, и чувственных. Но идут года, нарастает немощь… Сейчас я подозреваю, что немощь эта, иссякание сил молодости – не столько зло, сколько дар, но совершенно особый. В частности, немощь моя иногда открывает мне в, казалось бы, сотни раз перечитанных строках Евангелия нечто совершенно новое, и эти открытия бывают обескураживающи и невыносимы, как невыносим до боли бывает свет для того, кто привык к темноте.
Одно из таких открытий показало мне, что фарисей – это я. Показало, ПОЧЕМУ ИМЕННО и В ЧЕМ я фарисей. И почему, осознав это, я все же не смогу моментально этого фарисея от себя отодрать, взять и перестать им быть, и привычно осудить фарисея из притчи у меня язык не повернется, и говорить в пятисотый раз с амвона на тему «мытарь – хорошо, фарисей – плохо» совсем уж как-то нет у меня былого проповеднического вдохновенья.
Бывает, проснешься в глухой час ночи, под утро, часа в три, и уснуть не можешь… Пойдешь воды попьешь, валидол какой-нибудь отыщешь. Всю свою немощь, гнилость телесную и душевную чувствуешь всем собою. И умереть боишься как-то особо пакостно, безнадежно… И тут как тут – нечто похожее на тревожную воспаленную совесть, навалится, дышать не дает, от нее-то, собственно, и просыпаешься.
В «Лествице», по-моему, это состояние названо «демоном предутренним», но понимаешь, что просто так, без причины, даже и демон к тебе не привяжется, заслужил. Одним словом, как ни назови это состояние, а не становится легче. Молишься, конечно, тужишься, но не как бывало прежде, не как удалой воин с мечом, врага отгоняющий именем Христовым, а частью механически, как за соломинку цепляешься, частью – мычишь через силу что-то изнутри (представляю, как там Ионе было в рыбьих кишках, какое уж там иконописное благообразие), и в этой искренности – режущий ясный свет, и Господь в этом свете – на кресте, смотрит на тебя из такого далека, и с такой печалью и с укором… Простите, полнее даже приблизительно не могу описать, слов не подберу.
Вот в такой час понял я евангельского фарисея, и понял, почему я – фарисей (повторяю, я тут только о себе говорю, просто, может быть, кому-то еще пригодится).
Фарисей на самом деле вовсе не хвастается перед Богом, подумалось мне. Фарисею страшно. И он припоминает то, что закон научил его считать «добрыми делами», проверяет средства защиты.

Вот и мне в тот раз стало страшно. Умрешь, говорит мне предутренний демон, и что дальше? Дальше Суд. Он и при жизни, конечно, Суд, но в земной жизни по-другому устроено, тут тебе пока еще удается прятаться от Суда и от людей под личиной «батюшки Сергия»… А там – всё. Там от Суда не скрыться. И схема его проста: у Судьи – точный список всех твоих мерзостей. И днем, пока спасительная пелена обыденности кое-как прикрывает тебя, ты нарабатываешь себе каких-никаких «добрых дел», служишь там, добро кому-то (сомнительное) делаешь, статьи вон просветительские пишешь, что там еще. Набираешь бонусов, чтобы ими защищаться от обвинений. Как в карточной игре: есть козырь – есть чем покрыть, отбить ход партнера…
И вот в этом месте не знаю, как именно, но что-то произошло, наверно, Господь вмешался, но демон умолк. Я бы даже сказал, заткнулся, такое было ощущение.
И мне вдруг стало смешно. Не шибко веселый смех сквозь немощь и гадость смертную, как-то так. Я басню вспомнил, Льва Толстого. Про обезьяну и горох. Помните ее? Несла обезьяна полные пригоршни гороху, обезьяна жадная, боится просыпать добычу. Раз – и упала горошина! Обезьяна занервничала, ну тужиться поднять горошину – ан рассыпала и всё, что несла.
Вот тут и притча про фарисея на ум пришла. И увидел я себя: стою такой голый, жалкий перед Судьей, в трясущихся руках – горошины «добрых дел»… «Не таков все-таки, как вон тот мытарь»… Смех и грех, вот уж точно.
Ну, а потом утро пришло, стало как-то легче: вот снова день, ты еще живой, еще можешь шевелиться – слава Богу. Нет, и грехи никуда не делись, и немощи, и смерти страшно, но все ж таки легче: что-то такое Бог делает, даже без слов, что легче становится.
И теперь мне фарисея из притчи как-то жалко. И Богу, думаю, всех жалко: и его, и меня, и того мытаря. И всех нас Он неизреченно принимает. Значит, ничего, надо продолжать свой путь.
И еще думаю: а что, если нет у Судьи никакого списка моих грехов, припасенного специально, чтоб меня прижучить? Если Судья и Прокурор – не одно и то же? И дела закона исполнять надо, но для чего-то совсем другого, а не для того, чтобы ими на Суде оправдываться? И зря я эти горошины «добрых дел» собираю в копилку и трясусь над ними: всё равно ведь не донесу, а донесу – в Божьи ворота с этой ношей и пролезть-то не смогу?..
Что, если на настоящем, Божьем, Суде – всё совсем, совсем ПО-ДРУГОМУ?
Может такое быть?
Я думаю (делюсь только своим чаяньем), что вполне может.

Люди, которые давно в Церкви, чувствуют весну еще и так: вот Крещение прошло, а вот и «Покаяния двери» на Всенощной запели, значит, всё, дело к весне. Как с ледяной горки: долго лез на нее, лез, долез – и вот сел на санки, оттолкнулся, и эххх!.. Хоть и морозы еще, а быстрее времечко полетело, в сторону Великого поста, а там и Пасха ближе близкого.
И Неделя о мытаре и фарисее – как первая кочка на этом стремительном пути, первое напоминание: тряхнет, не даст забыть о главном.
«Фарисей, став, молился сам в себе так: Боже! благодарю Тебя, что я не таков, как прочие люди, грабители, обидчики, прелюбодеи, или как этот мытарь: пощусь два раза в неделю, даю десятую часть из всего, чтó приобретаю» (Лк. 18, 11-12)…
В первые годы своего пребывания в Церкви я читал разные толкования этой притчи и навык, как, наверное, и многие, держать в уме, что мытарем быть хорошо, фарисеем – плохо. В соединении с тем, что я еще и священник, это осознание прежде всего было для меня предметом проповеди, то есть жанра, в котором наиболее употребительно обтекаемое безличное «мы все»… Нехороший фарисей осуждает мытаря, гордится собой (хотя, к слову сказать, в жизни-то мы нередко видим и мытарей, сиречь закоренелых грешников, у которых гордыни не меньше, чем у фарисеев, и они умудряются вроде и раскаиваться, но при этом как-то так эффектно гордиться своими грехами, что диву даешься, взять хотя бы иного пропойцу или бабника… Ну, не о мытарях я веду сейчас речь), словом, чада, не будем же «мы все» уподобляться фарисею, вещал я когда-то народу Божию.
Что ж, я был молод когда-то… Молодость ведь, помимо прочего, означает еще и неизношенность, наличие каких-то сил – не вышеестественно благодатных, специально Богом данных, а просто естественных, человеческих, и телесных, и ментальных, и чувственных. Но идут года, нарастает немощь… Сейчас я подозреваю, что немощь эта, иссякание сил молодости – не столько зло, сколько дар, но совершенно особый. В частности, немощь моя иногда открывает мне в, казалось бы, сотни раз перечитанных строках Евангелия нечто совершенно новое, и эти открытия бывают обескураживающи и невыносимы, как невыносим до боли бывает свет для того, кто привык к темноте.
Одно из таких открытий показало мне, что фарисей – это я. Показало, ПОЧЕМУ ИМЕННО и В ЧЕМ я фарисей. И почему, осознав это, я все же не смогу моментально этого фарисея от себя отодрать, взять и перестать им быть, и привычно осудить фарисея из притчи у меня язык не повернется, и говорить в пятисотый раз с амвона на тему «мытарь – хорошо, фарисей – плохо» совсем уж как-то нет у меня былого проповеднического вдохновенья.
Бывает, проснешься в глухой час ночи, под утро, часа в три, и уснуть не можешь… Пойдешь воды попьешь, валидол какой-нибудь отыщешь. Всю свою немощь, гнилость телесную и душевную чувствуешь всем собою. И умереть боишься как-то особо пакостно, безнадежно… И тут как тут – нечто похожее на тревожную воспаленную совесть, навалится, дышать не дает, от нее-то, собственно, и просыпаешься.
В «Лествице», по-моему, это состояние названо «демоном предутренним», но понимаешь, что просто так, без причины, даже и демон к тебе не привяжется, заслужил. Одним словом, как ни назови это состояние, а не становится легче. Молишься, конечно, тужишься, но не как бывало прежде, не как удалой воин с мечом, врага отгоняющий именем Христовым, а частью механически, как за соломинку цепляешься, частью – мычишь через силу что-то изнутри (представляю, как там Ионе было в рыбьих кишках, какое уж там иконописное благообразие), и в этой искренности – режущий ясный свет, и Господь в этом свете – на кресте, смотрит на тебя из такого далека, и с такой печалью и с укором… Простите, полнее даже приблизительно не могу описать, слов не подберу.
Вот в такой час понял я евангельского фарисея, и понял, почему я – фарисей (повторяю, я тут только о себе говорю, просто, может быть, кому-то еще пригодится).
Фарисей на самом деле вовсе не хвастается перед Богом, подумалось мне. Фарисею страшно. И он припоминает то, что закон научил его считать «добрыми делами», проверяет средства защиты.

Вот и мне в тот раз стало страшно. Умрешь, говорит мне предутренний демон, и что дальше? Дальше Суд. Он и при жизни, конечно, Суд, но в земной жизни по-другому устроено, тут тебе пока еще удается прятаться от Суда и от людей под личиной «батюшки Сергия»… А там – всё. Там от Суда не скрыться. И схема его проста: у Судьи – точный список всех твоих мерзостей. И днем, пока спасительная пелена обыденности кое-как прикрывает тебя, ты нарабатываешь себе каких-никаких «добрых дел», служишь там, добро кому-то (сомнительное) делаешь, статьи вон просветительские пишешь, что там еще. Набираешь бонусов, чтобы ими защищаться от обвинений. Как в карточной игре: есть козырь – есть чем покрыть, отбить ход партнера…
И вот в этом месте не знаю, как именно, но что-то произошло, наверно, Господь вмешался, но демон умолк. Я бы даже сказал, заткнулся, такое было ощущение.
И мне вдруг стало смешно. Не шибко веселый смех сквозь немощь и гадость смертную, как-то так. Я басню вспомнил, Льва Толстого. Про обезьяну и горох. Помните ее? Несла обезьяна полные пригоршни гороху, обезьяна жадная, боится просыпать добычу. Раз – и упала горошина! Обезьяна занервничала, ну тужиться поднять горошину – ан рассыпала и всё, что несла.
Вот тут и притча про фарисея на ум пришла. И увидел я себя: стою такой голый, жалкий перед Судьей, в трясущихся руках – горошины «добрых дел»… «Не таков все-таки, как вон тот мытарь»… Смех и грех, вот уж точно.
Ну, а потом утро пришло, стало как-то легче: вот снова день, ты еще живой, еще можешь шевелиться – слава Богу. Нет, и грехи никуда не делись, и немощи, и смерти страшно, но все ж таки легче: что-то такое Бог делает, даже без слов, что легче становится.
И теперь мне фарисея из притчи как-то жалко. И Богу, думаю, всех жалко: и его, и меня, и того мытаря. И всех нас Он неизреченно принимает. Значит, ничего, надо продолжать свой путь.
И еще думаю: а что, если нет у Судьи никакого списка моих грехов, припасенного специально, чтоб меня прижучить? Если Судья и Прокурор – не одно и то же? И дела закона исполнять надо, но для чего-то совсем другого, а не для того, чтобы ими на Суде оправдываться? И зря я эти горошины «добрых дел» собираю в копилку и трясусь над ними: всё равно ведь не донесу, а донесу – в Божьи ворота с этой ношей и пролезть-то не смогу?..
Что, если на настоящем, Божьем, Суде – всё совсем, совсем ПО-ДРУГОМУ?
Может такое быть?
Я думаю (делюсь только своим чаяньем), что вполне может.
Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.