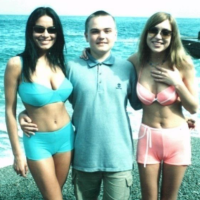Чего мы не замечаем в романе Хемингуэя
«По ком звонит колокол» – это свободный и серьезный разговор о вере и неверии, роман, в котором американский автор выражает особый, свободный взгляд на религиозную ситуацию своего времени.
Хемингуэй не был церковным человеком, но, остро чувствуя язвы своего времени, он смог создать откровенное духовное произведение. С писателя и его романа брали пример наши советские писатели, в том числе, Константин Симонов. Книга тесно сочеталась с советской военной литературой, но сильно отличалась от многих других произведений о войне высокой степенью свободы в разговорах о вере и религии, автор здесь без всякого страха говорил о духовных переживаниях.
О Хемингуэе и его книге рассказала кандидат филологических наук, доцент кафедры всемирной литературы МПГУ Надежда Соболева.
«По ком звонит колокол» – одна из восьми моих основных книг, я люблю ее больше всего, но она еще не закончена. Я написал ее единым духом после того, как почти два года, каждый вечер, передавал по телефону в Нью-Йорк две колонки об ужасах гражданской войны».
Это искреннее признание Эрнеста Хемингуэя, прозвучавшее в одном из его интервью парижскому журналу «Ар» за несколько лет до собственного жизненного финала, подчеркивает особое значение романа в творческой и духовной биографии писателя. Подобно важному для романа образу моста, который символизирует одновременно и противостояние, и взаимосвязь «горнего» и «дольнего», мира земного и мира небесного, точку наивысшего напряжения переходной ситуации, силу и величие незавершенности боя, бесконечности сопротивления; сам роман «По ком звонит колокол» (1940) знаменует важную веху в духовных исканиях писателя, отмечая переход от «документальности» проблематики ранней прозы к усилению философской ноты, притчевого начала в творчестве Хемингуэя 40х-50х гг. (в эти годы он написал знаменитые «За рекой в тени деревьев» и «Старик и море»).
Писатель отлично понимал, что для Гражданской войны в Испании элемент, связанный с верой и религией, очень силен, поэтому его роман от начала до конца пронизан христианским символизмом. Важно, что это не отражало личных воззрений Хемингуэя на веру – писатель не был церковным человеком.
Однако христианские аллюзии и образы, включенные им в текст, носят духовный характер. Так, независимо от религиозных взглядов самого писателя, это произведение имеет серьезное духовное измерение. Религиозно-философский вектор романа намечается уже в самом заглавии и эпиграфе ко всему произведению: фрагмент из духовного сочинения «Молитвы по возникающим поводам» («Размышление» XVII) английского поэта-метафизика, проповедника и настоятеля лондонского собора Святого Павла Джона Донна (1572-1631) выражает основную идею романа через диалог с христианской литературой (сам роман в жанровом отношении можно назвать реквиемом, гимном величия павших и непобежденных) – единство человека с общим замыслом Творца.
Мысль о связности судеб всего человечества в библейских категориях формулирует здесь абсолютную истину, универсальный нравственный закон человеческого сущестования. Судьбы, представленные в романе, — частное проявление этого всеобщего закона. Роберт Джордан, Ансельмо, Пабло, Пилар, Мария предстают перед читателем на страницах романа, подобно героям библейского эпоса, проходящими через испытание страхом и одиночеством. Каждый из них по-своему стремится к поиску прощения и обретению смирения как высшего проявления свободы нравственного выбора, главным воплощением которого является бесстрашие в принятии смерти, ибо единство людей, братство сильных, наполненное величием самоотверженности, оказывается высшим проявлением главной человеческой ценности – Любви.
“Я буду тобой, когда тебя не будет здесь <…> Пока один из нас жив, до тех пор мы живы оба” – это принятие героями всеобщности жизни и судьбы через любовь к отдельному человеку демонстрирует одну из существенных идей романа в духовном мире Эрнеста Хемингуэя: «Любовь — высшая цель существования, сущность высоких моральных принципов, основа содружества. <…> любовь в действии – это религия», – и в этом общем процессе по признанию писателя: «Хотя и слабо, но сердце человечества начинает биться как одно целое».
Скорчившись за валуном, думая о том, как ему сейчас придется перебегать открытое пространство под огнем, лейтенант Беррендо услышал низкий сиплый голос Глухого, несшийся сверху.
– Bandidos! – кричал голос. – Bandidosl Стреляйте в меня! Бейте в меня!
На вершине холма Глухой, припав к своему пулемету, смеялся так, что вся грудь у него болела, так, что ему казалось, голова у него вот-вот расколется пополам.
– Bandidos! – радостно закричал он опять. – Бейте в меня, bandidos! – Потом радостно покачал головой. Ничего, попутчиков у нас много будет, подумал он.
Он еще и второго офицера постарается уложить, пусть только тот вылезет из-за валуна. Рано или поздно ему придется оттуда вылезть. Глухой знал, что командовать из-за валуна офицер не сможет, и ждал верного случая уложить его.
И тут остальные, кто был на вершине, услышали шум приближающихся самолетов.

Эль Сордо его не услышал. Он наводил пулемет на дальний край валуна и думал: я буду стрелять в него, когда он побежит, и мне надо приготовиться, иначе я промахнусь. Можно стрелять ему в спину, пока он бежит. Можно забирать немного в сторону и вперед. Или дать ему разбежаться и тогда стрелять, забирая вперед. Тут он почувствовал, что его кто-то трогает за плечо, и оглянулся, и увидел серое, осунувшееся от страха лицо Хоакина, и посмотрел туда, куда он указывал, и увидел три приближающихся самолета.
В эту самую минуту лейтенант Беррендо выскочил из-за валуна и, пригнув голову, быстро перебирая ногами, помчался по склону наискосок вниз, туда, где под прикрытием скал был установлен пулемет.
Эль Сордо, занятый самолетами, не видел, как он побежал.
– Помоги мне вытащить его отсюда, – сказал он Хоакину, и мальчик высвободил пулемет, зажатый между лошадью и скалой.
Самолеты все приближались. Они летели эшелонированным строем и с каждой секундой становились больше, а шум их все нарастал.
– Ложитесь на спину и стреляйте в них, – сказал Глухой. – Стреляйте вперед по их лету.
Он все время не спускал с них глаз.
– Cabrones! Hijos de puta! – сказал он скороговоркой. – Игнасио, – сказал он. – Обопри пулемет на плечи мальчика. А ты, – Хоакину, – сиди и не шевелись. Ниже пригнись. Еще. Нет, ниже. Он лежал на спине и целился в самолеты, которые все приближались.
– Игнасио, подержи мне треногу.
Ножки треноги свисали с плеча Хоакина, а ствол трясся, потому что мальчик не мог удержать дрожи, слушая нарастающий гул.
Лежа на животе, подняв только голову, чтобы следить за приближением самолетов, Игнасио собрал все три ножки вместе и попытался придать устойчивость пулемету.
– Наклонись больше! – сказал он Хоакину. – Вперед наклонись!
“Пасионария говорит: лучше умереть стоя… – мысленно повторил Хоакин, а гул все нарастал. Вдруг он перебил себя: – Святая Мария, благодатная дева, господь с тобой; благословенна ты в женах, и благословен плод чрева твоего, Иисус. Святая Мария, Матерь Божия, молись за нас, грешных, ныне и в час наш смертный. Аминь. Святая Мария, Матерь Божия, – начал он снова и вдруг осекся, потому что гул перешел уже в оглушительный рев, и, торопясь, стал нанизывать слова покаянной молитвы: – О господи, прости, что я оскорблял тебя в невежестве своем… “

Тут у самого его уха загремело, и раскалившийся ствол обжег ему плечо. Потом опять загремело, очередь совсем оглушила его. Игнасио изо всех сил давил на треногу, ствол жег ему спину все сильнее. Теперь все кругом грохотало и ревело, и он не мог припомнить остальных слов покаянной молитвы.
Он помнил только: в час наш смертный. Аминь. В час наш смертный. Аминь. В час наш. Аминь. Остальные все стреляли. Ныне и в час наш смертный. Аминь.
Потом, за грохотом пулемета, послышался свист, от которого воздух рассекло надвое, и в красно-черном реве земля под ним закачалась, а потом вздыбилась и ударила его в лицо, а потом комья глины и каменные обломки посыпались со всех сторон, и Игнасио лежал на нем, и пулемет лежал на нем. Но он не был мертв, потому что свист послышался опять, и земля опять закачалась от рева. Потом свист послышался еще раз, и земля ушла из-под его тела, и одна сторона холма взлетела на воздух, а потом медленно стала падать и накрыла их.
Три раза самолеты возвращались и бомбили вершину холма, но никто на вершине уже не знал этого. Потом они обстреляли вершину из пулеметов и улетели. Когда они — в последний раз пикировали на холм, головной самолет сделал поворот через крыло, и оба других сделали то же, и, перестроившись клином, все три самолета скрылись в небе по направлению к Сеговии.
Держа вершину под непрерывным огнем, лейтенант Беррендо направил патруль в одну из воронок, вырытых бомбами, откуда удобно было забросать вершину гранатами. Он не желал рисковать, – вдруг кто-нибудь жив и дожидается их в этом хаосе наверху, — и он сам бросил четыре гранаты в нагромождение лошадиных трупов, камней, и обломков, и взрытой, пахнущей динамитом земли и только тогда вылез из воронки и пошел взглянуть.

Все были мертвы на вершине холма, кроме мальчика Хоакина, который лежал без сознания под телом Игнасио, придавившим его сверху. У мальчика Хоакина кровь лила из носа и ушей. Он ничего не знал и ничего не чувствовал с той минуты, когда вдруг все кругом загрохотало и разрыв бомбы совсем рядом отнял у него дыхание, и лейтенант Беррендо осенил себя крестом и потом застрелил его, приставив револьвер к затылку, так же быстро и бережно, – если такое резкое движение может быть бережным, — как Глухой застрелил лошадь.
Лейтенант Беррендо стоял на вершине и глядел вниз, на склон, усеянный телами своих, потом поднял глаза и посмотрел вдаль, туда, где они скакали за Глухим, прежде чем тот укрылся на этом холме. Он отметил в своей памяти всю картину боя и потом приказал привести наверх лошадей убитых кавалеристов и тела привязать поперек седла так, чтобы можно было доставить их в Ла-Гранху.
– Этого тоже взять, – сказал он. – Вот этого, с пулеметом в руках. Вероятно, он и есть Глухой. Он самый старший, и это он стрелял из пулемета. Отрубить ему голову и завернуть в пончо. – Он с минуту подумал. – Да, пожалуй, стоит захватить все головы. И внизу и там, где мы на них напали, тоже. Винтовки и револьверы собрать, пулемет приторочить к седлу.
Потом он пошел к телу лейтенанта, убитого при первой попытке атаки. Он посмотрел на него, но не притронулся.
Que cosa mas mala es la guerra, сказал он себе, что означало: какая нехорошая вещь война. Потом он снова осенил себя крестом и, спускаясь с холма, прочитал по дороге пять “Отче наш” и пять “Богородиц” за упокой души убитого товарища. Присутствовать при выполнении своего приказа он не захотел.
Хемингуэй не был церковным человеком, но, остро чувствуя язвы своего времени, он смог создать откровенное духовное произведение. С писателя и его романа брали пример наши советские писатели, в том числе, Константин Симонов. Книга тесно сочеталась с советской военной литературой, но сильно отличалась от многих других произведений о войне высокой степенью свободы в разговорах о вере и религии, автор здесь без всякого страха говорил о духовных переживаниях.
О Хемингуэе и его книге рассказала кандидат филологических наук, доцент кафедры всемирной литературы МПГУ Надежда Соболева.
«По ком звонит колокол» – одна из восьми моих основных книг, я люблю ее больше всего, но она еще не закончена. Я написал ее единым духом после того, как почти два года, каждый вечер, передавал по телефону в Нью-Йорк две колонки об ужасах гражданской войны».
Это искреннее признание Эрнеста Хемингуэя, прозвучавшее в одном из его интервью парижскому журналу «Ар» за несколько лет до собственного жизненного финала, подчеркивает особое значение романа в творческой и духовной биографии писателя. Подобно важному для романа образу моста, который символизирует одновременно и противостояние, и взаимосвязь «горнего» и «дольнего», мира земного и мира небесного, точку наивысшего напряжения переходной ситуации, силу и величие незавершенности боя, бесконечности сопротивления; сам роман «По ком звонит колокол» (1940) знаменует важную веху в духовных исканиях писателя, отмечая переход от «документальности» проблематики ранней прозы к усилению философской ноты, притчевого начала в творчестве Хемингуэя 40х-50х гг. (в эти годы он написал знаменитые «За рекой в тени деревьев» и «Старик и море»).
Писатель отлично понимал, что для Гражданской войны в Испании элемент, связанный с верой и религией, очень силен, поэтому его роман от начала до конца пронизан христианским символизмом. Важно, что это не отражало личных воззрений Хемингуэя на веру – писатель не был церковным человеком.
Однако христианские аллюзии и образы, включенные им в текст, носят духовный характер. Так, независимо от религиозных взглядов самого писателя, это произведение имеет серьезное духовное измерение. Религиозно-философский вектор романа намечается уже в самом заглавии и эпиграфе ко всему произведению: фрагмент из духовного сочинения «Молитвы по возникающим поводам» («Размышление» XVII) английского поэта-метафизика, проповедника и настоятеля лондонского собора Святого Павла Джона Донна (1572-1631) выражает основную идею романа через диалог с христианской литературой (сам роман в жанровом отношении можно назвать реквиемом, гимном величия павших и непобежденных) – единство человека с общим замыслом Творца.
Мысль о связности судеб всего человечества в библейских категориях формулирует здесь абсолютную истину, универсальный нравственный закон человеческого сущестования. Судьбы, представленные в романе, — частное проявление этого всеобщего закона. Роберт Джордан, Ансельмо, Пабло, Пилар, Мария предстают перед читателем на страницах романа, подобно героям библейского эпоса, проходящими через испытание страхом и одиночеством. Каждый из них по-своему стремится к поиску прощения и обретению смирения как высшего проявления свободы нравственного выбора, главным воплощением которого является бесстрашие в принятии смерти, ибо единство людей, братство сильных, наполненное величием самоотверженности, оказывается высшим проявлением главной человеческой ценности – Любви.
“Я буду тобой, когда тебя не будет здесь <…> Пока один из нас жив, до тех пор мы живы оба” – это принятие героями всеобщности жизни и судьбы через любовь к отдельному человеку демонстрирует одну из существенных идей романа в духовном мире Эрнеста Хемингуэя: «Любовь — высшая цель существования, сущность высоких моральных принципов, основа содружества. <…> любовь в действии – это религия», – и в этом общем процессе по признанию писателя: «Хотя и слабо, но сердце человечества начинает биться как одно целое».
Отрывок из романа “По ком звонит колокол” (глава двадцать семь)
Капитан лежал на склоне лицом вниз. Левая рука подогнулась под тело. Правая, с револьвером, была выброшена вперед. Снизу со всех сторон стреляли по вершине холма.Скорчившись за валуном, думая о том, как ему сейчас придется перебегать открытое пространство под огнем, лейтенант Беррендо услышал низкий сиплый голос Глухого, несшийся сверху.
– Bandidos! – кричал голос. – Bandidosl Стреляйте в меня! Бейте в меня!
На вершине холма Глухой, припав к своему пулемету, смеялся так, что вся грудь у него болела, так, что ему казалось, голова у него вот-вот расколется пополам.
– Bandidos! – радостно закричал он опять. – Бейте в меня, bandidos! – Потом радостно покачал головой. Ничего, попутчиков у нас много будет, подумал он.
Он еще и второго офицера постарается уложить, пусть только тот вылезет из-за валуна. Рано или поздно ему придется оттуда вылезть. Глухой знал, что командовать из-за валуна офицер не сможет, и ждал верного случая уложить его.
И тут остальные, кто был на вершине, услышали шум приближающихся самолетов.

Эль Сордо его не услышал. Он наводил пулемет на дальний край валуна и думал: я буду стрелять в него, когда он побежит, и мне надо приготовиться, иначе я промахнусь. Можно стрелять ему в спину, пока он бежит. Можно забирать немного в сторону и вперед. Или дать ему разбежаться и тогда стрелять, забирая вперед. Тут он почувствовал, что его кто-то трогает за плечо, и оглянулся, и увидел серое, осунувшееся от страха лицо Хоакина, и посмотрел туда, куда он указывал, и увидел три приближающихся самолета.
В эту самую минуту лейтенант Беррендо выскочил из-за валуна и, пригнув голову, быстро перебирая ногами, помчался по склону наискосок вниз, туда, где под прикрытием скал был установлен пулемет.
Эль Сордо, занятый самолетами, не видел, как он побежал.
– Помоги мне вытащить его отсюда, – сказал он Хоакину, и мальчик высвободил пулемет, зажатый между лошадью и скалой.
Самолеты все приближались. Они летели эшелонированным строем и с каждой секундой становились больше, а шум их все нарастал.
– Ложитесь на спину и стреляйте в них, – сказал Глухой. – Стреляйте вперед по их лету.
Он все время не спускал с них глаз.
– Cabrones! Hijos de puta! – сказал он скороговоркой. – Игнасио, – сказал он. – Обопри пулемет на плечи мальчика. А ты, – Хоакину, – сиди и не шевелись. Ниже пригнись. Еще. Нет, ниже. Он лежал на спине и целился в самолеты, которые все приближались.
– Игнасио, подержи мне треногу.
Ножки треноги свисали с плеча Хоакина, а ствол трясся, потому что мальчик не мог удержать дрожи, слушая нарастающий гул.
Лежа на животе, подняв только голову, чтобы следить за приближением самолетов, Игнасио собрал все три ножки вместе и попытался придать устойчивость пулемету.
– Наклонись больше! – сказал он Хоакину. – Вперед наклонись!
“Пасионария говорит: лучше умереть стоя… – мысленно повторил Хоакин, а гул все нарастал. Вдруг он перебил себя: – Святая Мария, благодатная дева, господь с тобой; благословенна ты в женах, и благословен плод чрева твоего, Иисус. Святая Мария, Матерь Божия, молись за нас, грешных, ныне и в час наш смертный. Аминь. Святая Мария, Матерь Божия, – начал он снова и вдруг осекся, потому что гул перешел уже в оглушительный рев, и, торопясь, стал нанизывать слова покаянной молитвы: – О господи, прости, что я оскорблял тебя в невежестве своем… “

Тут у самого его уха загремело, и раскалившийся ствол обжег ему плечо. Потом опять загремело, очередь совсем оглушила его. Игнасио изо всех сил давил на треногу, ствол жег ему спину все сильнее. Теперь все кругом грохотало и ревело, и он не мог припомнить остальных слов покаянной молитвы.
Он помнил только: в час наш смертный. Аминь. В час наш смертный. Аминь. В час наш. Аминь. Остальные все стреляли. Ныне и в час наш смертный. Аминь.
Потом, за грохотом пулемета, послышался свист, от которого воздух рассекло надвое, и в красно-черном реве земля под ним закачалась, а потом вздыбилась и ударила его в лицо, а потом комья глины и каменные обломки посыпались со всех сторон, и Игнасио лежал на нем, и пулемет лежал на нем. Но он не был мертв, потому что свист послышался опять, и земля опять закачалась от рева. Потом свист послышался еще раз, и земля ушла из-под его тела, и одна сторона холма взлетела на воздух, а потом медленно стала падать и накрыла их.
Три раза самолеты возвращались и бомбили вершину холма, но никто на вершине уже не знал этого. Потом они обстреляли вершину из пулеметов и улетели. Когда они — в последний раз пикировали на холм, головной самолет сделал поворот через крыло, и оба других сделали то же, и, перестроившись клином, все три самолета скрылись в небе по направлению к Сеговии.
Держа вершину под непрерывным огнем, лейтенант Беррендо направил патруль в одну из воронок, вырытых бомбами, откуда удобно было забросать вершину гранатами. Он не желал рисковать, – вдруг кто-нибудь жив и дожидается их в этом хаосе наверху, — и он сам бросил четыре гранаты в нагромождение лошадиных трупов, камней, и обломков, и взрытой, пахнущей динамитом земли и только тогда вылез из воронки и пошел взглянуть.

Все были мертвы на вершине холма, кроме мальчика Хоакина, который лежал без сознания под телом Игнасио, придавившим его сверху. У мальчика Хоакина кровь лила из носа и ушей. Он ничего не знал и ничего не чувствовал с той минуты, когда вдруг все кругом загрохотало и разрыв бомбы совсем рядом отнял у него дыхание, и лейтенант Беррендо осенил себя крестом и потом застрелил его, приставив револьвер к затылку, так же быстро и бережно, – если такое резкое движение может быть бережным, — как Глухой застрелил лошадь.
Лейтенант Беррендо стоял на вершине и глядел вниз, на склон, усеянный телами своих, потом поднял глаза и посмотрел вдаль, туда, где они скакали за Глухим, прежде чем тот укрылся на этом холме. Он отметил в своей памяти всю картину боя и потом приказал привести наверх лошадей убитых кавалеристов и тела привязать поперек седла так, чтобы можно было доставить их в Ла-Гранху.
– Этого тоже взять, – сказал он. – Вот этого, с пулеметом в руках. Вероятно, он и есть Глухой. Он самый старший, и это он стрелял из пулемета. Отрубить ему голову и завернуть в пончо. – Он с минуту подумал. – Да, пожалуй, стоит захватить все головы. И внизу и там, где мы на них напали, тоже. Винтовки и револьверы собрать, пулемет приторочить к седлу.
Потом он пошел к телу лейтенанта, убитого при первой попытке атаки. Он посмотрел на него, но не притронулся.
Que cosa mas mala es la guerra, сказал он себе, что означало: какая нехорошая вещь война. Потом он снова осенил себя крестом и, спускаясь с холма, прочитал по дороге пять “Отче наш” и пять “Богородиц” за упокой души убитого товарища. Присутствовать при выполнении своего приказа он не захотел.
Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.